Новости
10.11.2008
Не довольно!
7 ноября 2008 г. исполнилось 190 лет со дня рождения И. С. Тургенева.
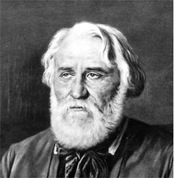 И годовщина какая-то сомнительная (ну что за дата — 190 лет?), и писатель ей под стать... Проходят школьники (мимо) «Отцов и детей»? Учат наизусть заклинание про «великий, могучий» и какой-то там еще русский язык? Дом-музей в Спасском не обрушился? Памятники стоят? Академическое собрание сочинений выпущено? (И в общем на пристойном уровне.) Конференции с докладами и фестивали с хороводами в табельные дни случаются? (Особливо в Орловской губернии.) Ну и, как выражался сам Тургенев, довольно. Он и в своем-то позапрошлом веке был типичным «интеллигентским» кумиром, идолом дурно образованных и эстетически зашоренных читателей, охочих до красивых пейзажей, утонченных страстей, таинственных печалей, вчерашней моды, дозволенного либеральничанья, античных статуй, музыкальных моментов, поэтических настроений и прочих «вечных ценностей». Вот они-то и наслаждались вылизанно правильным «артистичным» слогом, узнавая себя в сочувственно начертанных портретах «лишних людей», нервических нигилистов, картинных львиц и утомительно нравственных (богомольных) девушек и прочих обитателей «дворянских гнезд» Щигровского уезда. Как же проницательно (и с каким великолепным презрением) Толстой над тургеневским «трагизмом» смеялся! А Чехов потому и заставил Тригорина горько усмехаться (умру — будут повторять, что писал, дескать, хуже Тургенева), что знал твердо: он-то — настоящий художник — точно пишет в сто раз лучше автора «Накануне», только диковатой и консервативной публике-дуре его художество не по зубам. И Достоевский когда еще представил этого присюсюкивающего барина во всей его лакейской красе — ну можно ли после кармазиновского Merci всерьез читать его образчик — тургеневское «Довольно»?
И годовщина какая-то сомнительная (ну что за дата — 190 лет?), и писатель ей под стать... Проходят школьники (мимо) «Отцов и детей»? Учат наизусть заклинание про «великий, могучий» и какой-то там еще русский язык? Дом-музей в Спасском не обрушился? Памятники стоят? Академическое собрание сочинений выпущено? (И в общем на пристойном уровне.) Конференции с докладами и фестивали с хороводами в табельные дни случаются? (Особливо в Орловской губернии.) Ну и, как выражался сам Тургенев, довольно. Он и в своем-то позапрошлом веке был типичным «интеллигентским» кумиром, идолом дурно образованных и эстетически зашоренных читателей, охочих до красивых пейзажей, утонченных страстей, таинственных печалей, вчерашней моды, дозволенного либеральничанья, античных статуй, музыкальных моментов, поэтических настроений и прочих «вечных ценностей». Вот они-то и наслаждались вылизанно правильным «артистичным» слогом, узнавая себя в сочувственно начертанных портретах «лишних людей», нервических нигилистов, картинных львиц и утомительно нравственных (богомольных) девушек и прочих обитателей «дворянских гнезд» Щигровского уезда. Как же проницательно (и с каким великолепным презрением) Толстой над тургеневским «трагизмом» смеялся! А Чехов потому и заставил Тригорина горько усмехаться (умру — будут повторять, что писал, дескать, хуже Тургенева), что знал твердо: он-то — настоящий художник — точно пишет в сто раз лучше автора «Накануне», только диковатой и консервативной публике-дуре его художество не по зубам. И Достоевский когда еще представил этого присюсюкивающего барина во всей его лакейской красе — ну можно ли после кармазиновского Merci всерьез читать его образчик — тургеневское «Довольно»?По-моему, так и можно, и должно. И в тургеневском «трагизме» на поверку ничего смешного нет. (По сути же Толстой был прав, «трагизм» — один из главных ключей к тому поэтическому миру, что разворачивается от «Записок охотника» к Senilia, «Песни торжествующей любви» и «Кларе Милич».) И гениально обрисованный Достоевским, жалкий и претенциозный, опасливо лебезящий перед молодыми мерзавцами и свысока взирающий на идолопоклонствующую провинциальную публику Кармазинов не равен Тургеневу, на которого разгневался создатель «Бесов». Достоевский, до конца жизни Тургенева не простивший (или не простивший ему своего пасквиля?), в Пушкинской речи не мог не упомянуть Лизы Калитиной. И от своих — до ссоры произнесенных — мудрых слов об «Отцах и детях», о святом и грешном сердце Базарова, не отрекся. Так вот, Кармазинов (сколько бы намеков на прототип мы ни уловили) не способен написать «Дворянское гнездо» и «Отцов и детей». Как и все прочие (включая «Довольно») сочинения Тургенева. Например, историю дурака, который «жил припеваючи», покуда не «стали до него доходить слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца». Дурак сумел одолеть эту невзгоду — он принялся бодро бранить все, что вызывало приязнь и уважение окружающих. «И кого бы ни хвалили при дураке — у него на все была одна отповедь. Разве иногда прибавит с укоризной:
— А вы все еще верите в авторитеты?» Так дурак сделал карьеру. «Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, — сам авторитет — а юноши перед ним благоговеют — и боятся его.
Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть... но тут, поди, не возблагоговей — в отсталые люди попадешь!
Житье дуракам между трусами».
Дело не только в том, что снисходительно ироничное отношение к Тургеневу сооружено по дурацким чертежам. (Резкие суждения великих писателей используются в этой игре шулерски — конфликтные диалоги Толстого, Достоевского, Некрасова, Щедрина, Чехова с Тургеневым вовсе не предполагают его дискредитации.) И не в том, что «Дурак» характеризует культуру 2000-х столь же точно, как культуру 1870-х. Гораздо важнее, что здесь (как почти всегда у Тургенева) за «актуальным сюжетом» (а он был действительно чуток к веяниям времени) проступают контуры сюжета вечного. «...мне сдается, что если бы вновь народился Шекспир, ему не из чего было бы отказываться от своего Гамлета, от своего Лира. Его проницательный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту: все та же пестрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своем тревожном однообразии <...> Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» — что другими словами значит: «нет и правых» — и тоже бы промолвил: довольно! и тоже бы отвернулся».
Это к вопросу о «трагизме», который Тургенев видел в судьбе всякого представителя людского племени — героически смешного Дон Кихота и изъеденного рефлексией Гамлета, надоедливого и суетливого фразера (вдруг оборачивающегося подвижником) и «дюжинного» человека, вдруг оказывающегося без вины виноватым (как Лаврецкий) или сбитым с толку злой страстью (как Литвинов в «Дыме» или Санин в «Вешних водах»). Игра судьбы может настигнуть любого — таинственные истории у Тургенева случаются с персонажами, казалось бы, совсем не для того предназначенными, будь то отравленный романтической пошлостью Теглев («Стук... стук... стук!..»), смешной забулдыга Чертопханов или несчастный попович из «Рассказа отца Алексея». Чувства человеческие (равно их аннигиляция, торжество хамского зла в иных душах) не зависят от «социальных контекстов» — потому в «Записках охотника» «господские» сюжеты («Мой сосед Радилов», «Уездный лекарь», «Гамлет Щигровского уезда») не выше и не ниже «крестьянских». Потому и «Венера Милосская <...> несомненнее римского права или принципов восемьдесят девятого года». Несмотря на то, что равнодушная, не знающая искусства, свободы, добра, природа когда-нибудь да уничтожит «лик фидиасовского Юпитера» и «драгоценнейшие строки Софокла».
Герой «Довольно» — умирающий. Как и герой «Дневника лишнего человека». Тургенев с предельной остротой ощущал конечность человеческой жизни. Эта конечность и делает всякого человека «лишним» (социальные обстоятельства ей только умело подыгрывают), и художнику (в частности, повествователю «Довольно») не дано одолеть всевластие энтропии. Есть люди, которых спасает вера, — Тургенев их глубоко почитал (перечитайте хотя бы «Живые мощи»). Но заставить себя верить невозможно (это тоже к вопросу о «трагизме», раздражавшем Толстого, — что ж, его и Шекспир из себя выводил). Тургенев спасался от страха небытия деланием, а делом его была литература. Вот почему в финале Senilia, истово исповедального цикла, где ритмично чередуются отчаяние и надежда, сопряженная с великим жизнелюбием, возникает удивительный диптих. Сперва — «Молитва» с ее горчайшим вопросом — «Но может ли даже личный, живой, образный Бог сделать, чтобы дважды два не было четыре?» — и вибрирующими ответами. А потом — то самое, задолбленное: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». И не только дома. И не только о русском народе и его чаемом величии говорит здесь умирающий Тургенев.
Андрей Немзер
Источник: Время новостей








